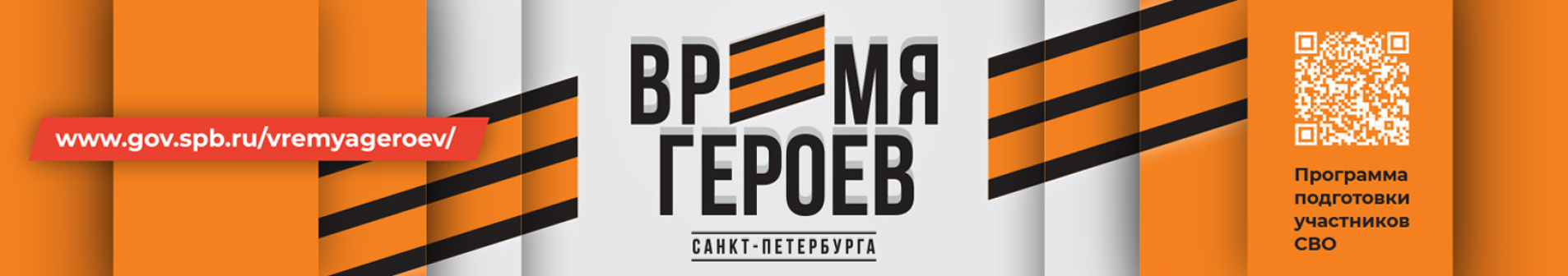Продолжается цикл открытых лекций и дискуссий в рамках Программы «Толерантность». На днях с петербуржцами встретился писатель, публицист, литературовед, политический обозреватель газеты «Известия», автор и ведущий программы «Тем временем» на телеканале «Культура» Александр Архангельский. «Толерантность: трудности перевода» - так была определена тема его выступления.
Цикл открытых лекций задумывался Комитетом по внешним связям Санкт‑Петербурга как инструмент активизации общественного, политического и научного дискурса на темы, касающиеся проблем сосуществования культур в современном глобализирующемся мире. В рамках проекта своими размышлениями с петербуржцами уже поделились Даниил Гранин, Дмитрий Быков, Андрей Константинов, Исаак Штокбант, Питер Гринуэй и другие известные деятели культуры.
Александр Архангельский начал свое выступление с проблемы поиска ответа на вопрос «как нам жить вместе?». По мнению публициста, никакой опыт, российский или зарубежный, не может дать на этот вопрос однозначного ответа – в каждый исторический момент общество должно искать его снова и снова.
- Ничей опыт напрямую мы заимствовать не сможем, даже свой собственный – российский исторический опыт в современную ситуацию перенести не удастся. Были ли в истории России моменты, когда был дан ответ на вопрос – как нам, таким этнически, культурно, религиозно, социально разнородным жить в одной стране и быть единым народом? На мой взгляд, было два таких момента. Первый – это российская империя с ее формулой «Православие, самодержавие, народность». Все являются подданными одной державы, по отношению к которой возможна верность, возможна лояльность, возможно служение. У этноса или отдельного человека нет национальной идентичности, а есть идентичность державная.
Второй пример – это «брежневская» конституция 1977 года, в которой было сказано, что у нас сформировалась новая историческая общность – советский народ. Я в 77-м году оканчивал девятый класс и помню, как мы хихикали над этой формулировкой. Но вся последующая история подтвердила, что такая общность была, и в глубине нашего сознания она до сих пор сохраняется.
История давала ответы на этот сложный вопрос. Однако любая модель временна, и никогда не будет вечного ответа и вечного рецепта, который сможет избавить мир от расизма и ксенофобии.
Толерантность, терпимость, политкорректность – отношение публициста к этим понятиям интересовало и слушателей в зале, и аудиторию, наблюдавшую за трансляцией лекции в Интернете.
- Политкорректность, терпимость и толерантность не противостоят, а дополняют друг друга. Часто от людей, особенно церковных, можно услышать: давайте не будем использовать слово «толерантность», а будем использовать слово «терпимость». Но за этим сразу выстраивается некая философия: если мы говорим, что мы терпимы, это значит, что мир устроен только по нашим правилам, и мы согласились терпеть тех, кто не такой, как мы. Толерантность же означает, что у нас общий мир, и мы выстраиваем такие отношения, при которых все одинаково подчинены каким-то высшим ценностям.
Политкорректность – свод жестких правил, которые в обществе не стоит нарушать, даже если очень хочется. Полезна ли политика политкорректности? Как лекарство – и да, и нет. Сегодня политкорректность часто превращается в свою собственную противоположность – из формы общественного договора в форму цензуры. Можно ли вывести и распространить на весь мир общие правила политкорректности? Нет, потому что это зависит от конкретного исторического опыта. В Америке вы не можете употребить слово «негр» - американская история такова, что это слово имеет трагические коннотации. В России можно его употреблять? Да запросто, потому что в нашем историческом прошлом оно не связано с негативом, и если нам здесь будут запрещать произносить слово «негр», это будет анекдот.
Порой то, что со стороны кажется неполиткорректным, на самом деле является формой защиты ценностей общества. Как разные страны определяют для себя границы толерантности?
- Давайте, чтобы не себя обсуждать, перенесемся в Данию и рассмотрим ситуацию с публикацией в датских журналах карикатур на пророка Мухаммеда. Почему в Дании эти карикатуры были не формой оскорбления мусульман, а формой защиты датских традиций? Потому что в Дании сложилась и принята большинством датчан традиция, при которой можно высказывать любое критическое суждение о любой идеологии и любом мировоззрении. Поэтому если какая-то общественная группа заявляет о том, что по отношению к ней что-либо недопустимо, датское общество отвечает в рамках своих традиций, не считаясь с тем, нравится это кому-то или нет. При условии, что в тех же изданиях могут появиться карикатуры на христиан, евреев, буддистов – кого угодно, это очень важно. Мне, например, это не нравится. Но это не вопрос «нравится – не нравится», это вопрос выбора датского общества. В России, где ислам не пришлый, а укорененный, такое недопустимо. У нас исторически сложное, многоконфессиональное государство, совсем другая ситуация.
Пытаясь установить какие-то правила, мы должны начать с анализа нашей исторической реальности. Толерантность, терпимость и политкорректность должны быть, но их пропорции никто за нас не определит, мы сами должны их нащупать и договориться между собой.
Неумение устанавливать обязательные для всех общие правила является проблемой российской журналистики. В аудитории было немало представителей прессы, которых интересовали принципы освещения межэтнических отношений в СМИ.
- У нас нет умения договариваться о корпоративных правилах, и это плохо. Мы все время ждем, когда нам сверху правила спустят, они нам не будут нравиться, мы будем ругаться, нарушать эти правила и гордиться тем, что их нарушаем… В качестве примера могу привести Америку, где медийные корпорации договорились между собой о соблюдении некоторых правил – не давать террористам слово в эфире, не раскрывать подробностей действий спецслужб… Во время терактов 11 сентября было снято множество кадров, на которых люди выпрыгивали из окон «башен-близнецов» и разбивались, но ни один телевизионный канал таких кадров не показал! Хотя мог бы с их помощью очень повысить свой рейтинг. Но такова была договоренность, и она была выполнена.
Нередко последствием массовой миграции становится всплеск национализма. Как страны, столкнувшиеся с этой проблемой раньше России, научились с ней бороться, и может ли нам пригодиться их опыт?
- Всплеск национализма возникает во всех странах, переживающих постимперскую эпоху. Возьмем Францию – в начале 60-х годов она теряет Алжир. Это была очень сильная травма. Де Голль принимает решение о выходе из Алжира, это означает конец французских колоний. Во Франции произошла вспышка национализма. Французская элита, культурная и политическая, столкнулась с этой проблемой. Могли они сыграть на этом национализме? Могли. А могли они бороться с этим национализмом? Могли. Но и тот и другой путь ведут в пропасть. И тогда они начали искать какое-то зерно, зародыш чего-то другого, что могло бы вывести французов за пределы этого животного состояния. И тогда Франция вспомнила о французском языке: империи у нас больше нет, но у нас есть великий французский язык, который объединяет людей на огромной части мира. Этнический национализм был переключен на национализм языковой. Самой популярной программой французского телевидения стала программа «Диктант». Это был общенациональный диктант, в кадре ходил интеллигентного вида дядечка, диктовал, а участники писали – и вся страна приникала к экранам телевизоров. А от национализма языкового легко сделать шаг к гражданскому самосознанию. «Мы французы, потому что мы говорим на великом французском языке».
Великобритания не смогла сделать ставку на английский язык, потому что после Второй мировой войны он стал языком функциональным. Поставили на литературу, и тогда возникла самая известная литературная премия – Букеровская. Где бы автор ни писал свое произведение, будь он индус, американец, юаровец, австралиец, если он пишет по-английски – он английский писатель.
Германия со своим нацистским прошлым решала проблему через школу, через выстраивание такой политики школьного образования, которая формировала бы у молодого поколения новую ценностную шкалу. Сегодня в европейском пространстве Германия – главная опора всего, что связано с толерантным началом.
Этот вопрос можно решить – долго, последовательно, найдя ключевое звено.
В России школа блестяще может справиться с этой задачей, только нужно, чтобы задача была поставлена. Если поступит «заказ» на формирование общегражданского сознания, чтобы на выходе дети из смешанных семей превращались в россиян, школа с этим справится. Но тогда повышается статус гуманитарных предметов. Они становятся ядром формирования гражданской нации на основе литературы, истории, театра – того, на чем строится сознание.
Можно ли рассчитывать на появление в России такой национальной идеи, которая наконец-то сможет объединить все народы вокруг чего-то общего? Ответ Александра Архангельского на этот вопрос из зала многим показался неожиданным.
- Надеюсь, что нет. Любая национальная идея всегда спускается сверху и никогда не вызревает снизу. В каких случаях национальная идея срабатывает? Когда готовится война, это способ мобилизации. Мы можем, назвав любую «устоявшуюся» страну, сказать, какие там базовые ценности. Америка – индивидуализм, доллар, американское могущество, религиозность... Дания, о которой мы сегодня уже говорили – коллективизм, солидарность в принятии решений, социальное равенство, абсолютная свобода в критике любых взглядов... Я сторонник базовых ценностей, которые вызревают в процессе совместного проживания. Их не может быть много, и они должны быть понятны профессору и дворнику, человеку, живущему в большом городе и в деревне.
На сайте была организована трансляция встречи, поэтому вопросы поступали не только от слушателей в зале, но и от Интернет-аудитории. Один из заданных вопросов касался проблем воспитания: как справляться с ситуациями, когда детские ссоры происходят на национальной почве?
- Ссоры, в том числе на национальной почве, могут происходить и там, где у детей с воспитанием и мозгами все в порядке. Важно, чтобы это не заходило за определенные границы, не перерастало в идеологию. Это вопрос разговоров в семье. Дети – они же с «антеннками», они ходят и слышат обрывки фраз, осколки каких-то мнений. Телевизор включили – фразу услышали, в школе кто-то что-то не то произнес, на улице, в песочнице… Когда мы разговариваем, мы должны понимать, что нас не только взрослые слышат, но и дети – случайные обрывки разговоров, которые у них в головах откладываются. Знаете, как в старину родители переходили на какой-нибудь известный им иностранный язык, когда обсуждали вещи, не предназначенные для детских ушей. Кроме того, важно учитывать фактор возраста. Об одних и тех же вещах детям разного возраста нужно говорить разным языком, и к этому надо готовиться – к тому, что вам придется объяснять им очень серьезные вещи, о многом говорить откровенно.
Еще один вопрос, заданный зрителем Интернет-трансляции, касался различий между понятиями «толерентность» и «дружба народов».
- Когда-то я работал в журнале «Дружба народов». Так что «Дружба народов» – это журнал!
- А «Толерантность» - программа правительства Санкт‑Петербурга, – поддержали шутку из зала.
- Если говорить серьезно, - продолжил Александр Архангельский, - то дружба народов может быть между разными странами. Дружба народов внутри одного государства – вещь неправильная, ведь мы – единый народ. Внутри одной страны должны дружить люди и семьи!